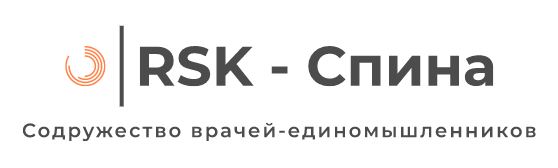Александр городницкий стихи о позвоночнике

Александр Моисеевич Городницкий родился в 1933 году в
Ленинграде. Советский и российский ученый-геофизик, доктор
геолого-минералогических наук, профессор, член Российской академии естественных
наук. Широко известен как поэт, бард, считается одним из основоположников
авторской песни. Лауреат Государственной литературной премии имени Булата
Окуджавы. Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института
океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
* * *
Не ждите от истории ответа, —
Она для нас не этим дорога.
Течет неспешно медленная Лета,
Крутые отражая берега.
Ее глубин невидимые рифы
Нам никогда увидеть не дано.
Ее первооснова — это мифы,
В которые поверили давно.
Ее устои вечно преходящи, —
И храмы, что стояли на крови,
И этот бесконечно лгущий ящик,
Который называется ТВ.
Здесь фактам непреложным нету
места,
Не отыскать источников иных.
Неверно все: и летописец Нестор,
И повесть лет далеких временных.
Ей дела нет всегда до фактов косных,
Событий, что случались наяву,
Что сразу после битвы Куликовской
Пришли татары и сожгли Москву.
Мы все безоговорочно ей верим.
Ей признаваться вроде не к лицу,
Что Моцарта не убивал Сальери,
«Аврора» не стреляла по дворцу.
Не связана научною структурой,
Во все века, в любые времена,
Она была всегда литературой
И, значит, быть правдивой не должна.
КОНЕЦ ЛИЦЕЯ
Юлию Киму
Позабывшиеся даты,
Словно шрамы на лице.
Здесь расстрелян в двадцать
пятом
Александровский лицей.
Всех недавних лицеистов
Как заведомых врагов
Утром, пасмурным и мглистым,
Возле невских берегов,
Расстреляли на опушке,
Где от солнышка светло.
Был бы вместе с ними Пушкин,
И ему б не повезло.
В оголтелом этом веке
Не щадили никого, —
Был бы с ними Кюхельбекер,
Застрелили б и его.
План расстрела сверху спущен,
Он и должен быть таков.
Уничтожен был бы Пущин
И, конечно, Горчаков.
Снисхожденья им не будет, —
Хоть и нет на них вины:
Образованные люди
Новой власти не нужны.
Будет вечно кровью харкать
Эта доблестная рать,
Там, где может и кухарка
Государством управлять.
И не будут лицеисты
Собираться у огня
«В октябре багрянолистом,
Девятнадцатого дня».
САРАНЧА
На Кубани, где в поле кружит саранча
В середине палящего лета,
Почему-то мне спать не дают по ночам
Допотопные главы Завета.
Почему, справедливости вечный оплот,
Бог во время библейское оно
Подвергал наказанию целый народ,
А не только семью фараона?
Почему под его беспощадным мечом,
Через казни жестокие эти,
Пострадали и те, кто совсем ни при чем
—
Старики или малые дети?
Но увяз ноготок, и всей птичке пропасть,
И какой бы ни век на планете,
Почему-то всегда за преступную власть
Весь народ постоянно в ответе.
И везде, от полярных до южных
широт,
Недород и другие напасти
Что ни день, что ни год переносит народ,
Став заложником собственной власти.
И опять, словно школьник, уроки уча,
Я листаю страницы Завета
На Кубани, где в поле гудит саранча,
От которой спасения нету.
* * *
Нету от старости панацеи.
Стал я с годами и лыс, и грузен.
Мальчик играет меня на сцене,
В новом спектакле в самарском ТЮЗе.
Мальчик, курчавый, как я когда-то,
Смотрит моими на мир глазами,
Пересекает, плывя, экватор,
Песни поет и любовью занят.
Он на меня не похож, и все же
На режиссера я не в обиде.
Не ощутить не могу я дрожи,
Жизнь свою со стороны увидев.
Пусть моя пьеса подходит к краю,
Счастья назавтра не жду, как прежде.
Мальчик, который меня играет,
Вновь возвращает меня к надежде.
Веря в несбыточные легенды,
В жизни реальной крутом замесе,
Я не добрался до «Хеппи-энда», —
Может быть, будет иначе в пьесе.
МОИ ПРАВНУКИ
Такое прежде никогда,
Наверное, не снилось.
Какою меркою ни мерь,
А жизнь идет на лад.
Бог десять правнуков мне дал,
Явив Господню милость.
Я этой милостью теперь
Пожизненно богат.
Он оказал мне эту честь,
Являя лик свой узкий,
И стал теперь необходим,
Как хлеб, что мы едим
Неважно мне, какой он есть,—
Еврейский или русский,
Поскольку он всегда един
И на Земле один.
Пускай не звал меня пророк
В сияющие двери,
Не разверзался потолок
Под парой белых крыл.
Бог сделал все, что только мог,
Чтоб я в него поверил,
Он сделал все, что только мог,
Чтоб я его открыл.
Пусть мой недолговечен стих,
И сам я жил затем ли,
Чтобы не сделать ничего
За долгие года?
Десяток правнуков моих
Поднимут эту землю
И для народа своего
Построят города.
Взрастет мой маленький народ
Разноименной масти
В недостижимой полосе
Грядущего утра,
И кто-то будет садовод,
А кто-то будет мастер,
И станут воинами все,
Когда придет пора.
Пусть будет в доме их всегда
Веселье и достаток,
Пускай не рвется эта нить,
Что прежде началась.
И я грядущие года,
Их небольшой остаток,
Смогу с улыбкою прожить
И в гроб сойти, смеясь.
СТИХИ О
ПОЗВОНОЧНИКЕ
Боль в спине, и поутру, и ночью.
Нету спасу — хоть на крик
кричи.
«Полностью изношен позвоночник», —
Говорят сочувственно врачи.
Да и как ему не износиться
На холодных вьюжных северах,
Где пришлось мне двадцать лет трудиться
В партиях, за совесть и за страх!
Там, себя считая молодцами,
Мы лицом не ударяли в грязь,
Рюкзаки таская с образцами,
На уступы мерзлые садясь.
Да и как ему не износиться
На судах за три десятка лет,
Где не раз за время экспедиций
Мы здоровью причиняли вред.
Где к проблемам подходя по-русски,
И в дневное время, и в ночах,
Судовые частые погрузки
На своих мы вынесли плечах.
Не щадя свой позвоночник ломкий,
Я трудился, не жалея сил.
Если б знал заране, то соломки
Где-нибудь, возможно, постелил.
И хотя мы все, увы, не вечны
И уже пора гасить свечу,
Все же позвоночник мой увечный
На другой менять я не хочу.
Потому что, завершая бал сей,
Я скажу: в минувшие года
Он болел, стирался и ломался,
Но не прогибался никогда.
Источник
ПРОЗА И ПОЭЗИЯ
Александр ГОРОДНИЦКИЙ
Александр Моисеевич Городницкий родился в 1933 году в Ленинграде. Советский и российский ученый-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор, член Российской академии естественных наук. Широко известен как поэт, бард, считается одним из основоположников авторской песни. Лауреат Государственной литературной премии имени Булата Окуджавы. Заслуженный деятель науки РФ, главный научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
Не ждите от истории ответа, —
Она для нас не этим дорога.
Течет неспешно медленная Лета,
Крутые отражая берега.
Ее глубин невидимые рифы
Нам никогда увидеть не дано.
Ее первооснова — это мифы,
В которые поверили давно.
Ее устои вечно преходящи, —
И храмы, что стояли на крови,
И этот бесконечно лгущий ящик,
Который называется ТВ.
Здесь фактам непреложным нету места,
Не отыскать источников иных.
Неверно все: и летописец Нестор,
И повесть лет далеких временных.
Ей дела нет всегда до фактов косных,
Событий, что случались наяву,
Что сразу после битвы Куликовской
Пришли татары и сожгли Москву.
Мы все безоговорочно ей верим.
Ей признаваться вроде не к лицу,
Что Моцарта не убивал Сальери,
«Аврора» не стреляла по дворцу.
Не связана научною структурой,
Во все века, в любые времена,
Она была всегда литературой
И, значит, быть правдивой не должна.
Юлию Киму
Позабывшиеся даты,
Словно шрамы на лице.
Здесь расстрелян в двадцать пятом
Александровский лицей.
Всех недавних лицеистов,
Как заведомых врагов,
Утром, пасмурным и мглистым,
Возле невских берегов,
Расстреляли на опушке,
Где от солнышка светло.
Был бы вместе с ними Пушкин,
И ему б не повезло.
В оголтелом этом веке
Не щадили никого, —
Был бы с ними Кюхельбекер,
Застрелили б и его.
План расстрела сверху спущен,
Он и должен быть таков.
Уничтожен был бы Пущин
И, конечно, Горчаков.
Снисхожденья им не будет, —
Хоть и нет на них вины:
Образованные люди
Новой власти не нужны.
Будет вечно кровью харкать
Эта доблестная рать,
Там, где может и кухарка
Государством управлять.
И не будут лицеисты
Собираться у огня
«В октябре багрянолистом,
Девятнадцатого дня».
На Кубани, где в поле кружит саранча
В середине палящего лета,
Почему-то мне спать не дают по ночам
Допотопные главы Завета.
Почему, справедливости вечный оплот,
Бог во время библейское оно
Подвергал наказанию целый народ,
А не только семью фараона?
Почему под его беспощадным мечом,
Через казни жестокие эти,
Пострадали и те, кто совсем ни при чем —
Старики или малые дети?
Но увяз ноготок, и всей птичке пропасть,
И какой бы ни век на планете,
Почему-то всегда за преступную власть
Весь народ постоянно в ответе.
И везде, от полярных до южных широт,
Недород и другие напасти
Что ни день, что ни год переносит народ,
Став заложником собственной власти.
И опять, словно школьник, уроки уча,
Я листаю страницы Завета
На Кубани, где в поле гудит саранча,
От которой спасения нету.
Нету от старости панацеи.
Стал я с годами и лыс, и грузен.
Мальчик играет меня на сцене,
В новом спектакле в самарском ТЮЗе.
Мальчик, курчавый, как я когда-то,
Смотрит моими на мир глазами,
Пересекает, плывя, экватор,
Песни поет и любовью занят.
Он на меня не похож, и все же
На режиссера я не в обиде.
Не ощутить не могу я дрожи,
Жизнь свою со стороны увидев.
Пусть моя пьеса подходит к краю,
Счастья назавтра не жду, как прежде.
Мальчик, который меня играет,
Вновь возвращает меня к надежде.
Веря в несбыточные легенды,
В жизни реальной крутом замесе,
Я не добрался до «Хеппи-энда», —
Может быть, будет иначе в пьесе.
Такое прежде никогда,
Наверное, не снилось.
Какою меркою ни мерь,
А жизнь идет на лад.
Бог десять правнуков мне дал,
Явив Господню милость.
Я этой милостью теперь
Пожизненно богат.
Он оказал мне эту честь,
Являя лик свой узкий,
И стал теперь необходим,
Как хлеб, что мы едим
Неважно мне, какой он есть,—
Еврейский или русский,
Поскольку он всегда един,
И на Земле один.
Пускай не звал меня пророк
В сияющие двери,
Не разверзался потолок
Под парой белых крыл.
Бог сделал все, что только мог,
Чтоб я в него поверил,
Он сделал все, что только мог,
Чтоб я его открыл.
Пусть мой недолговечен стих,
И сам я жил затем ли,
Чтобы не сделать ничего
За долгие года?
Десяток правнуков моих
Поднимут эту землю
И для народа своего
Построят города.
Взрастет мой маленький народ
Разноименной масти
В недостижимой полосе
Грядущего утра,
И кто-то будет садовод,
А кто-то будет мастер,
И станут воинами все,
Когда придет пора.
Пусть будет в доме их всегда
Веселье и достаток,
Пускай не рвется эта нить,
Что прежде началась.
И я грядущие года,
Их небольшой остаток,
Смогу с улыбкою прожить
И в гроб сойти, смеясь.
Боль в спине, и поутру, и ночью.
Нету спасу — хоть на крик кричи.
«Полностью изношен позвоночник», —
Говорят сочувственно врачи.
Да и как ему не износиться
На холодных вьюжных северах,
Где пришлось мне двадцать лет трудиться
В партиях, за совесть и за страх!
Там, себя считая молодцами,
Мы лицом не ударяли в грязь,
Рюкзаки таская с образцами,
На уступы мерзлые садясь.
Да и как ему не износиться
На судах за три десятка лет,
Где не раз за время экспедиций
Мы здоровью причиняли вред.
Где к проблемам подходя по-русски,
И в дневное время, и в ночах,
Судовые частые погрузки
На своих мы вынесли плечах.
Не щадя свой позвоночник ломкий,
Я трудился, не жалея сил.
Если б знал заране, то соломки
Где-нибудь, возможно, постелил.
И хотя мы все, увы, не вечны
И уже пора гасить свечу,
Все же позвоночник мой увечный
На другой менять я не хочу.
Потому что, завершая бал сей,
Я скажу: в минувшие года
Он болел, стирался и ломался,
Но не прогибался никогда.
Источник
***
Лежат поэты на холмах пустынных,
И непонятно, в чем же корень зла,
Что в поединке уцелел Мартынов
И что судьба Дантеса сберегла?
Что, сколько раз ни приходилось биться,
Как ни была рука его тверда,
Не смог поэт ни разу стать убийцей
И оставался жертвою всегда?
Неясно почему? Не потому ли,
Что был им непривычен пистолет?
Но бил со смехом Пушкин пулю в пулю,
Туза навскидку пробивал корнет.
Причина здесь не в шансах перевеса, –
Была вперед предрешена беда:
Когда бы Пушкин застрелил Дантеса,
Как жить ему и как писать тогда?
***
Боюсь запоздалой любви,
Беспомощной и бесполезной.
Так детских боятся болезней,
Сокрытых у взрослых в крови.
Боюсь запоздалой любви,
Щемящей её ностальгии.
Уже мы не станем другими,
Как годы назад ни зови.
Был потом посолен мой хлеб.
И все же, уставший молиться,
Боюсь я теперь убедиться,
Что был я наивен и слеп.
Когда на пороге зима,
Высаживать поздно коренья.
Милее мне прежняя тьма,
Чем позднее это прозренье.
Боюсь непрочитанных книг,
Грозящих моим убежденьям,-
Так кости боится старик
Сломать неудачным паденьем.
Фрейлехс
У евреев сегодня праздник.
Мы пришли к синагоге с Колькой.
Нешто мало их били разве,
А гляди-ка – осталось сколько!
Русской водкой жиды согрелись,
И, пихая друг друга боком,
Заплясали евреи фрейлехс
Под косые взгляды из окон.
Ты проверь, старшина, наряды,
Если что – поднимай тревогу.
И чему они, гады, рады? –
Всех ведь выведем понемногу.
Видно, мало костям их прелось
По сырым и далеким ямам.
Пусть покуда попляшут фрейлехс –
Им плясать еще, окаянным!
Выгибая худые выи,
В середине московских сует,
Поразвесив носы кривые,
Молодые жиды танцуют.
Им встречать по баракам зрелость
Да по кладбищам – новоселье,
А евреи танцуют фрейлехс,
Что по-русски значит – веселье.
1964
***
В старинном соборе играет орган
Среди суеты Лиссабона.
Тяжёлое солнце, садясь в океан,
Горит за оградой собора.
Романского стиля скупые черты,
Тепло уходящего лета.
О чём, чужеземец, задумался ты
В потоке вечернего света?
О чём загрустила недолгая плоть
Под каменной этой стеною, –
О сыне, которого не дал Господь?
О жизни, что вся за спиною?
Скопление чаек кружит, как пурга,
Над берега пёстрою лентой.
В пустынном соборе играет орган
На самом краю континента,
Где нищий, в лиловой таящийся мгле,
Согнулся у входа убого.
Не вечно присутствие нас на Земле,
Но вечно присутствие Бога.
Звенит под ногами коричневый лист,
Зелёный и юный вчера лишь.
Я так сожалею, что я атеист, –
Уже ничего не исправишь.
***
Этот браунинг дамский в огромной руке!
Этот выстрел, что связан с секретом,
От которого эхо гудит вдалеке,
В назидание прочим поэтам!
Отчего, агитатор, трибун и герой,
В самого себя выстрелил вдруг ты,
Так брезгливо воды избегавший сырой
И не евший немытые фрукты?
Может, женщины этому были виной,
Что сожгли твою душу и тело,
Оплатившие самой высокой ценой
Неудачи своих адьюльтеров?
Суть не в этом, а в том, что врагами друзья
С каждым новым становятся часом,
Что всю звонкую силу поэта нельзя
Отдавать атакующим классам.
Потому что стихи воспевают террор
В оголтелой и воющей прессе,
Потому что к штыку приравняли перо
И включили в систему репрессий.
Свой последний гражданский ты выполнил долг,
Злодеяний иных не содеяв.
Ты привёл приговор в исполнение – до,
А не задним числом, как Фадеев.
Продолжается век, обрывается день
На высокой пронзительной ноте,
И ложится на дом Маяковского тень
От огромного дома напротив.
1986
Маяковский Владимир Владимирович (1893-1930) — русский поэт. Покончил жизнь самоубийством в Москве в доме на Малой Лубянке, напротив здания НКВД — КГБ.
Фадеев Александр Александрович (1901-1956) — русский писатель, генеральный секретарь Союза писателей в 1946-1954 гг., покончил с собой после 20 съезда КПСС и разоблачительного доклада Н.С.Хрущёва о культе личности И.В.Сталина.
13 марта 1987
***
Много раз объясняли мне это, и все же неясно пока мне, –
Почему не цветы на могилы евреи приносят, а камни?
Потому ли, что в жарких песках Аравийской пустыни,
Где в пути они гибли, цветов этих нет и в помине?
Потому ли, что там, где дороги души бесконечны,
Увядают цветы, а вот камни практически вечны?
Или в том здесь причина, что люди стремятся нередко,
Снявши камень с души, передать его умершим предкам?
Потому ли, что Бог, о идущих к нему вспоминая,
Эти камни горячие сыпал со склона Синая,
Где над желтой рудой, в голубой белизне пегматита
Прорастали слюдой непонятные буквы иврита?
Может быть, эти камни — осколки погибшего храма,
Что немало веков сберегают потомки упрямо?
К ним приходят потом, как к стене неизбывного плача,
Вспоминая о том, кто уже невозвратно утрачен.
А скорее, и в этом, возможно, основа идеи,
Эти камушки — часть каменистой земли Иудеи,
Чтобы всюду усопшие, где бы они ни лежали,
Вспоминали Отчизну, откуда их предки бежали.
Много раз объясняли мне это, и все же понять я не в силах,
Почему только камни лежат на еврейских могилах?
Я не знаю причины, но, верный традициям этим,
И холодной зимой, и неласковым питерским летом
На Казанское кладбище, к старой раскидистой ели,
На могилу родителей камни несу я в портфеле.
Никаких не скажу над могилой родительской слов я, –
Принесенные камни у их положу изголовья,
Постою над плитой, над водою невидимой Стикса,
Подчиняясь крутой позабывшейся воле инстинкта.
И когда под плиту эту лягу я с предками рядом,
Под осенним дождем, под весенним прерывистым градом,
Принесите мне камушки тоже — неважно какие,
Но желательно все же, чтобы был среди них рапакиви.
Потому что порвать не могу я связующей нити
С этим городом вечным, стоящим на финском граните,
Где родился когда-то и вновь, вероятно, усну я,
Чужеродную землю наивно приняв за родную.
ЕДВАБНЕ
Меиру Строяковскому
В воду речную войти попытаемся дважды:
Всё изменилось вокруг со времен Гераклита.
В польской земле существует местечко Едвабне,
Тайна кровавая в этом местечке сокрыта.
После войны на полвека умолкло местечко,
Взгляд отводили поляки, которые старше,
Но неожиданно вдруг объявилась утечка –
Жид уцелевший, в Нью-Йорке профессором ставший.
Год сорок первый, дыхание горькой полыни,
Непогребенные юных жолнеров останки.
Польские земли идут из огня да в полымя, –
То под советские, то под немецкие танки.
И возникает, над Польшею вороном рея,
Эта позорная, черная эта страница,
Как убивали в Едвабне поляки евреев,
Чтобы деньгами и скарбом чужим поживиться.
Били и мучили их, убивали не сразу,
Тех, с кем годами до этого жили в соседстве,
Не по приказу немецкому, не по приказу,
А по велению пылкого польского сердца.
Красное знамя нести заставляли раввина,
Гнали по улицам через побои и ругань.
После загнали под черные срубы овина
И запалили бензином политые срубы.
В тот же сарай запихнули совместно с жидами
Статую Ленина, сброшенную с постамента,
Так и смешались, в одной захоронены яме,
Пепел людской и обугленный гипс монумента.
Что еще вспомнится в этом пронзительном вое,
Дыме и копоти? – В общем не так уж и много:
Школьник веселый играет в футбол головою
Только вчера еще чтимого им педагога.
Дети и женщины, и старики, и калеки, –
Было их много, – не меньше полутора тысяч.
Кто их припомнить сумеет в сегодняшнем веке?
Кто имена потрудится на мраморе высечь?
Всех извели, чтобы было другим не повадно,
Чтобы от скверны очистилась Речь Посполита.
В польской земле существует местечко Едвабне,
Тайна кровавая в этом местечке сокрыта.
Я побывал там недавно со съемочной группой,
В том городке, что по-прежнему выглядит бедно.
Площадь, базар, переулки, мощеные грубо,
Старый костел прихожан призывает к обедне.
Спросишь о прошлом, – в ответ пожимают плечами
Или слова подбирают с трудом и не быстро.
Как им живется, им сладко ли спится ночами,
Внукам людей, совершавших когда-то убийства?
Мэр городка черноусый по имени Кшиштоф
Дал интервью, озираясь на окна в испуге:
«Да, убивали поляки, конечно, но тише, –
Этого нынче никто не признает в округе».
Что до прелатов – ответ их всегда одинаков:
«Те и виновны, что в общей укрылись могиле, –
Сами себя и сожгли, чтобы после поляков
В том обвинять, что они никогда не творили».
Стебли травы пробиваются из-под суглинка,
В нынешнем веке минувшее так ли уж важно?
В польской истории нету названья «Треблинка»,
В польской истории нету названья «Едвабне».
Мир убиенным, землей безымянною ставшим,
Красным бурьяном, встающим над склоном покатым.
В русской истории нету названья «Осташков»,
В русской истории нету названия «Катынь».
Ветер в два пальца свистит, как раскосый кочевник.
Дождик танцует по сумрачному бездорожью.
Новые школьники новый листают учебник, –
Новая кровь открывается старою ложью.
2001
Источник